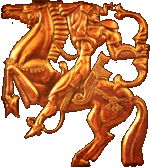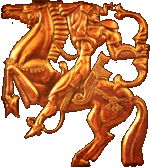|
И.А. Кажарова
(Нальчик)
РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЫХ КОДОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (М. НАХУШЕВ, М. КЕШТОВ, Н. КУЕК)
Цель статьи – отметить некоторые закономерности прочтения адыгской историософской поэзии, возникающие при вхождении в нее фольклорных элементов разных уровней. Сложность подобных теоретических заявок в том, что частный аспект рискует быть оцененным как исходный критерий анализа произведения, потому сразу оговоримся, что мы стремимся обозначить функции фольклорных кодов только в потоке осмысления поэтической историософии. О каких бы элементах ни шла речь, мы намерены отталкиваться прежде всего от доминирующих мировоззренческих установок авторов, будут ли они сходиться с тем, что открывает фольклор, или нет, - вопрос второстепенный.
Нет необходимости доказывать, что фольклор (в нашем случае эпос “Нарты”) оценивается художественным сознанием в качестве смысловой автономии постольку, поскольку составляет определенную знаковую структуру. Возможно, существуют закономерности, определяющие функции фольклорных элементов в поэтическом произведении, в связи с чем важно определить, какие ассоциации рождает фольклор и оправдывает ли вероятные ожидания историософская поэзия.
Условно можно обозначить три уровня или три типа восприятия фольклорных элементов в поэтическом произведении: 1) бытовое восприятие; 2) критическое восприятие;3) преображающее восприятие.
Как любые другие явления, наблюдаемые в сфере художественности, эти три типа восприятия не существуют обособленно, они синтезируются или же в разных соотношениях дополняют друг друга. Кроме того, фольклорные коды как таковые могут занимать различное положение в системе произведения, вступая во взаимодействие с другими смысловыми автономиями.
На уровне бытового восприятия мы имеем самое общее представление, вынесенное еще из детских лет: “Нарты” – древнее сказание о подвигах героев. Знаменательно, что бытовое восприятие отсекает “негативное” содержание фольклора, нивелирует допустимые в нем противоречия. Подобные установки впоследствии не отменяются даже очень специализированными познаниями. Какой бы глубины ни достигали фольклорные познания художника, до какой бы степени ни доходила их наполненность субъективными смыслами, одновременно с ними или в определенной к ним пропорции заявляет о себе тривиальный бытовой компонент восприятия. Он выступает тем “минимальным предзнанием”, от которого так или иначе отталкиваются как автор поэтического произведения, так и интерпретатор. Присутствие в поэтическом тексте узнаваемого фольклорного события, ситуации или имени служит здесь отсылкой к семантике “героического”. Как было сказано, на этом уровне отсекается негатив и доминирует благоговение, которое в адыгском ментальном сознании инициируется образом далекого прошлого.
Безотносительно к тому какую именно роль и насколько действенно выполняли фольклорные сказания в прошлом, представление об их авторитетности оказывается функциональным для адыгской историософской поэзии. Именно это представление в контексте современного художественного мышления дает импульс критическому восприятию фольклорных кодов. Эпос “Нарты” - мир, построенный по собственным законам, в определенном смысле это культурное начало адыгов, корни, и в этой функции он как бы призывается современниками к ответу. Здесь идет процесс активного переосмысления, нередко с подключением иронического и пародирующего начал. На этом уровне, как правило, полнее всего обнаруживает себя историософская потребность в морали и идеалах. Критическое восприятие стремится “излиться” в выводах, метафорически заявить свою позицию.
Как символическое свидетельство прошлого эпос “Нарты” содержит в себе потенциал мифологической энергии, его мифо-фольклорная традиция – освященная, как было отмечено, давно прошедшим временем. В этом отношении мы ожидаем от него преображающего воздействия. Поскольку “архетип наполняет нас узнаваемой целостностью, узнаваемой выносливостью”, мы стремимся к преображению, обосновываясь надеждой на то, что фольклорные коды способны открыть нам если не сверхсмыслы и тайные знания, то, по меньшей мере, вернуть утраченную истину. В поэтическом плане на этом уровне возможны и правомерны попытки внерационального схватывания искомой сущности.
Чтобы аргументировать сказанное выше, достаточно привести некоторые примеры. Так, в числе произведений, созданных черкесским поэтом М. Нахушевым, есть стихотворение “На пути, пройденном нартами…” (“Нартхэ гъуэгуанэу къакIуам…”). Прозрачная образность этого стихотворения дает нам право на короткий пересказ поэтического сюжета. Великий Тхашхо собирает нартов на хасу. Герои, не ведающие истинных намерений Тхашхо, напряженно вглядываются в лики богов и по их величественному спокойствию полагают, что никакая опасность им не грозит. Однако догадки не оправдываются, Тхашхо оглашает перечень их деяний, за каждым из которых проступает жесткая реалистическая оценка. Боги спрашивают с нартов за то, как распорядились последние дарованными им мужеством, красотой, силой. Моральная и этическая оценка пути, пройденного целым народом, в произведении не эксплицируется, но тяготеет к однозначности. Нарты жалки, жалки именно на фоне отнесения к своему “героическому” ореолу. Пройденный путь, в предложенном Нахушевым решении, увенчался страхом, стыдом, обнаружившимся вдруг желанием сгинуть с лица земли (“Их богом высказанная правда/ Поразила нартов до глубины души,// Жаль, случилось позорное…/ Того, кто гневит Тхашхо, не ждет ничего доброго…”). Так в проекции фольклорных образов критическое восприятие обнаруживает философскую идею соотнесения “вчера” и “сегодня” отдельного народа.
Апелляция к фольклору – одна из очевидных черт поэзии кабардинца М. Кештова, прочитывается в контексте открытости внешнему миру, определяющей способ его поэтического видения. Кештов указывает на давно утвердившиеся связи явлений, подчас грань между определенным историческим моментом и вневременным теряет важность. Вместе с тем четкое осознание неизменности однажды установленных данностей уживается с готовностью неустанно “открывать” такую действительность, отслеживая в ней путь человечества. Вряд ли подобное отслеживание может быть самоцелью творчества. Данности – это установление пределов, и субъект, так или иначе, должен проявить свое отношение к ним. Надежда на выход за пределы данностей или снятие их неподвижности сопрягается с древними образами, за которыми автор стремится обнаружить универсальный смысл. Так, ситуация, внедренная в стихотворение “Огонь” - смерть Сосруко - обусловливает плавный переход от постоянств “сегодня” к постоянству вечности. Однако сопричастность прошлому, которая порождается ориентацией на фольклор, оборачивается не только ощущением собственной укорененности, но и горьким опытом осознания трагизма такой укорененности. Для Кештова бесспорны величие, вневременность и всепроникнутость смысла, заключенного в фольклоре (“Я - капля этой вселенной./ В непрерывно вращающейся земле я присутствую/ Золотым самородком, либо песком,/ Присутствую осевшей пылью”; “Я – капля крови./ Народный герой,/ защищая Родину, пролил меня.” (“Слова Тлепша”)), но порой это величие является не в превосходстве над данностями в смысле их преодоления, а только в предвосхищении и проникновении их. Подобная функция фольклорных кодов если не определена всей системой кештовской лирики изначально, то, во всяком случае, для нее закономерна.
Поиск универсального смысла фольклора близок и Н. Куеку. Важно при этом учесть, что идея “извечности бытия”, а не вечность, далекое прошлое или бесконечность предопределяют принципы художественного миропостроения адыгейского поэта. Особая целостность, какой предстает его мир, выверена законами этой извечности, которые обытовленному сознанию кажутся разрушительными. Идея изначальной отнесенности всего существующего к единому смыслу, принципиальная неатомарность мира, каждый раз ведет человека не к познанию, а словно бы к узнаванию происходящего как родной но забытой изначальности. Но память при этом сопрягается с образами мрака, тьмы, с отсутствием света, видимости, или же оказывается в одном контексте со слепотой. Причем невидимость и мрак здесь не свойства или явления действительности, а овнешненные признаки чего-то утраченного и недосягаемого. В соотнесении с тем, что утрачено, весь мир предстает цепью пустых отражений, отчего историософия Н. Куека обретает предельно условный характер. Мотив утраты интенсивнее всего проступает в текстах с фольклорными аллюзиями, часто трансформируясь в мотив убитой бесконечности, отвергнутой вечности. Слово – одно из отражений, способное обрести самодостаточность и тем самым окончательно скрыть истину (“Когда, Посылая на подвиг,/ Убьем/ Героя,/ Мы точно знаем:/ Тем, что его потеряем,/ Сказку убережем.” (“Когда…”); В заунывной песне/ Сказителя-старика,/ В беззубом старушечьем шепотке/…/ Похоронен был навека/ Самый ловкий и умный самый…”(“Нарты”)). Видимости замещают истину. Недосягаемость последней осознана как следствие предательства и убийства, которые ложатся клеймом на существование человечества. Предательство множит видимости: слова (пустые), сожаления (бессмысленные): “Но легендами нашими стали/ Те стоны,/ Что он исторгал, скорбя.” (“Противоречия”).
Фольклор в художественной системе Н. Куека оказывается не просто в статусе “особого смысла”. Он – прежде всего мрачное свидетельство утраты истины и смысла. Характерно, что осознание героем этой утраты порождает в нем стремление прорваться к истине, восстановить исконное право на нее (“Нарты”). Но подобное стремление приводит к очередному столкновению с видимостями, а осознанные видимости делают мир чуждым. Показательно в этом отношении восприятие образов пространства в стихотворении “Нарты”, их характеристика основана на семантике отчужденности, холодности и бесприютности. Помимо этого заметна тенденция к постепенному уплотнению пространственных “покровов”, скрывающих истину: так, Сосруко сокрыт среди слов – в черном кургане – во чреве Адыиф, а сама Адыиф сходит в черный гроб “раньше срока бесплодной тигрицей”. Истина умерщвлена, и того, кто ее ищет, реальность уводит во мрак, равнозначный небытию.
Суммируя все сказанное, важно заметить, что первые два типа восприятия дают интерпретатору возможность четко просматривать границы фольклорных кодов и определять их функции в контексте поэтической историософии. Преображающее же восприятие, как правило, находит место там, где границы фольклорной структуры поглощаются общей смысловой тенденцией произведения. В отношении же творчества трех названных авторов можно сказать, что их историософия в большинстве случаев лишает нас возможности “оптимистического” прочтения фольклорных кодов.
|